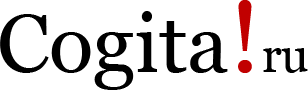Народный бизнес на Крайнем Севере
Жители закрытых и закрывающихся поселков, как за соломинку, хватаются за любые намеки и слухи о том, что кто-то что-то в их поселках «откроет». Людям не хочется уезжать и хочется верить в то, что у их любимых мест еще может быть будущее – ведь «здесь такая природа!».
Например, в закрытой и разоренной Слюде рассказывают о каких-то голландцах, которые приезжали смотреть на здание местной школы, чтобы устроить там турбазу, но передумали из-за плохой дороги, о французах, которые думали выращивать шампиньоны в заброшенной шахте – но, замерив уровень радиации, «убежали бегом». В Риколатве надеялись, что откроют пансионат «для наркоманов, бомжей – тех, которые обществу неугодны». Но это все планы кого-то «со стороны», а чем же в это время занимаются местные жители?
Постиндустриальные собиратели
Массовым частным предпринимательством можно считать сбор
ягод и грибов. В урожайные годы некоторым удается неплохо заработать: «Однажды
я на ягодах заработала на пылесос!», - говорит Галина Ивановна из Риколатвы.
Пенсионеры Романовы, живущие все лето в закрытой Слюде, два года назад
заработали «на чернике» 97 тысяч – и все отдали за учебу внучки в Мурманске. Это
здесь, к слову, довольно типично: никто ничего не ждет для себя, все средства и
силы вкладываются в образование и устройство детей и внуков. Чернику сдают на
местах, а конечным пунктом назначения ягод обычно являются соседние европейские
страны, в первую очередь Финляндия. Массовый черничный бизнес, однако, имеет
оборотную сторону: для увеличения «производительности» собирают чернику не
вручную, а с помощью комбайнов, которые вместе с ягодами обрывают с куста
черники листву и могут повредить его корневую систему. «Финны-то о своей
природе заботятся, не собирают так, покупают у нас. А потом те же финские
йогурты с нашей черникой нам же и продают», - рассказывает местная жительница,
- «а наши только рады заработать».
Местным бизнесом стало и собирательство другого рода: ни одно здание, оставшееся без видимого хозяина, не застраховано от моментального растаскивания на кирпичи, металл и дрова. Широко распространенная здесь практика - сбор металла на бывших промышленных территориях, в районах шахт и рудников. Сами поселки также постепенно рушатся под напором «металлистов». Нина Владимировна, жительница поселка Слюда, рассказывает: «Когда поселок закрыли и многие уже разъехались, здесь каждый вечер стоял страшный скрежет – все выдирали, что могли найти. Оборудование из столовой, котельной, перекрытия, кабели – все». Система сбора металлолома - многоуровневая. Сборщики – «металлисты» низшего уровня - колесят по Ковдорскому району на грузовиках и машинах без номеров, выгребают все, что могут найти, сдают по три рубля за килограмм в поселке Енский. Оттуда цепочка перепродаж, как говорят сами сборщики, тянется до самого Мурманска. По пути металлолом, естественно, дорожает.
Отношение к металлистам среди местных жителей противоречивое. Некоторые жители активно возмущаются, что на их глазах нахально разбирают следы благополучного прошлого, надежды на возрождение которого у некоторых все же остались. Нина Владимировна – самый упорный борец с уничтожением поселка Слюда, возмущена тем, что «металлисты» без всяких разрешений и лицензий собирают металлолом, разрушая при этом остатки зданий и асфальтовую дорогу в поселке бульдозерами и тракторами. И как многие местные жители, она вздыхает: «На те деньги, что здесь наворовали и на этом металле заработали, можно было бы асфальтовую дорогу до самого Ковдора проложить!». «Этих денег хватило бы на то, чтобы с людьми расплатиться – рудник ведь за 9 месяцев так и не выплатил зарплату», - вторит ей Любовь Викторовна из Риколатвы. В тоже время, многие понимают – возрождения не будет, а безработным металлистам нужно на что-то кормить свои семьи. Кроме того, лес вокруг поселков настолько замусорен ржавыми и уродливыми остатками «жизнедеятельности» шахт, что металлисты выступают даже как «санитары леса», возвращая ему приличный вид.
Вот, собственно, и все предпринимательство – вернее, собирательство, сложившееся в бывшем промышленном центре. Люди по привычке ждут и надеются, что о них кто-то позаботится – ведь раньше их и поселки «опекали» рудники и комбинаты, от которых сегодня остались только горы металлолома и изрытые горы.
Фермеры Заполярья
Более традиционные формы предпринимательства в Заполярье, конечно,
тоже есть. Франц Ефимович Ромашко, начальник управления Енского
территориального сельского поселения в Ковдорском районе, с гордостью
рассказывает: подсобное хозяйство Ковдорского ГОКа несколько лет назад перешло
в руки частного предпринимателя – Рафаила Вагизова - и превратилось в одно из
самых успешных сельскохозяйственных предприятий Мурманской области. «Агрокомплекс
«Ковдорский»» смог извлечь выгоду из того, что потерял крупного «покровителя» в
виде ГОКа. Сегодня весь юг Мурманской области питается молочными продуктами,
мясом и яйцами из поселка Лейпи. Ромашко связывает такую успешность и с
особенностями местного, северного отношения к работе: «У нас в Мурманской
области всегда и коровы лучше доились, и картошки дольше хватало, чем даже в
Краснодарском крае. А все потому, что у нас отношение здесь другое, более
бережное, разумное».
Однако не всегда судьба отправляющихся в свободное плавание северных предпринимателей складывается так радужно. Сплошной борьбой с обстоятельствами и соседями представляется история Владимира Тихомирова – человека с активной жизненной позицией и деятельным характером из поселка Риколатва. Несколько раз Владимир Федорович пытался начать свое дело: он занимался оленеводством, обучившись всему с нуля, после оленей – завел коров, после коров хотел заняться рыбоводством. «Но в нашей стране нельзя быть белой вороной, нельзя выделяться», - горько заключает Владимир Федорович. Ни одно из этих начинаний не удавалось ему реализовать так, как хотелось. Оленей ловили и убивали, коровы, бродившие по поселку и топтавшие огороды, вызывали негодование односельчан, и кто-то поджег сено в хозяйстве Тихомирова – животных едва удалось спасти. После этого случая от идеи заниматься животноводством фермер отказался. «Каждое занятие оставляло только минус в душе», - говорит предприниматель.
Новый вид народного бизнеса
Как мы писали в предыдущем очерке, многие северяне обижены на руководство промышленных предприятий и на местную администрацию: люди чувствуют себя брошенными. Однако с 2003 года действует Закон «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». Прописанная в нем процедура переселения с Севера запустила огромный - хотя и не предусмотренный собственно государством, а являющийся результатом смекалки и предприимчивости наших людей - механизм извлечения из государства хотя бы небольшой компенсации за долгие годы работы на Севере.
В соответствии с этим законом, граждане, желающие перебраться в среднюю полосу России (в первую очередь, это касается пенсионеров и ветеранов труда, но жителям закрывающихся поселков такая возможность также предоставляется), получают взамен своего жилья на Севере не жилплощадь в конкретном месте, а жилищный сертификат на определенную сумму. Сумма устанавливается в зависимости от того, в какой именно регион хочет перебраться получатель. Единственная проблема в том, что высчитывается сумма с учетом средней государственной, а не рыночной стоимости квадратного метра в том или ином регионе. Естественно, на реальную покупку этого сертификата не хватит. И вот здесь и начинается народный северный бизнес.
 Самые высокие цены на жилье – даже государство это понимает
– в Москве и Петербурге. Поэтому подавляющее большинство северян сегодня
«собирается» именно туда: согласно заявлениям, поданным на получение жилищных
сертификатов. Между тем, реально в Москву и Петербург мало кто хочет, а многие
и вовсе не желают покидать Заполярье – привыкли, и природа красивая, и люди
лучше, да и вообще, прожившим всю жизнь в условиях Крайнего Севера адаптация к
климату средней полосы может оказаться невозможной и вредной. На помощь им
приходят московские и петербургские агентства недвижимости, быстро
отреагировавшие на спрос: они помогают обналичить сертификат, выдают
переселяющимся деньги за вычетом комиссионных (обычно это 10% от суммы), на
которые те могут купить жилье, где пожелают. Это уже не будут столичные города,
но денег может хватить на покупку квартиры или дома в регионах. При хорошем
раскладе у переселенцев даже остаются кое-какие деньги после покупки нового
жилья.
Самые высокие цены на жилье – даже государство это понимает
– в Москве и Петербурге. Поэтому подавляющее большинство северян сегодня
«собирается» именно туда: согласно заявлениям, поданным на получение жилищных
сертификатов. Между тем, реально в Москву и Петербург мало кто хочет, а многие
и вовсе не желают покидать Заполярье – привыкли, и природа красивая, и люди
лучше, да и вообще, прожившим всю жизнь в условиях Крайнего Севера адаптация к
климату средней полосы может оказаться невозможной и вредной. На помощь им
приходят московские и петербургские агентства недвижимости, быстро
отреагировавшие на спрос: они помогают обналичить сертификат, выдают
переселяющимся деньги за вычетом комиссионных (обычно это 10% от суммы), на
которые те могут купить жилье, где пожелают. Это уже не будут столичные города,
но денег может хватить на покупку квартиры или дома в регионах. При хорошем
раскладе у переселенцев даже остаются кое-какие деньги после покупки нового
жилья.
Сейчас эта система находится под угрозой: чиновники, естественно, в курсе того, как «выкручиваются» люди, и обсуждают возможность введения единой средней по стране суммы, прописываемой в сертификате. По словам депутата Госдумы Ростислава Гольдштейна, из-за обналичивания сертификатов с «сумасшедшими» суммами «очередь на переселение движется очень медленно. Если же сделать цену единой по России, то все будет честно, и гораздо большее количество людей сможет получить жилье в благоприятных по климату регионах». Между тем, местные говорят – до того, как появились способы обналичивания сертификатов, их никто не хотел брать, и очередь не двигалась вовсе: никому были не нужны сертификаты с «нерыночными» суммами.
Приобретение жилья, переезды, сертификаты и прочие операции с жилплощадью – самая животрепещущая тема на Севере сегодня. Люди не столько пытаются уехать с Севера, сколько занимаются приращением – пытаются и сами не прогадать, и детям, и внукам что-то выкроить. Подробнее о том, как происходит закрытие и переселение – в следующем очерке на Cogita!ru.
<Продолжение следует>
Материал, положенный в основу данной серии очерков, собран в рамках проекта MOVE-INNOCOM (поддержан Академией наук Финляндии, грант N118702).